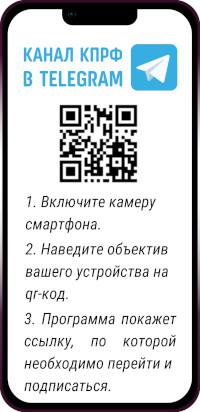Хрущевщина или От какого наследства нам обязательно надо отказаться
Хрущевщина
или
От какого наследства нам обязательно надо отказаться
Уверен, что те, кто вступал в коммунистическую партию не ради карьеры, а по убеждениям, кто по-настоящему верит в идеалы коммунизма, не раз задавали себе проклятые вопросы: почему развалилась великая держава, почему победила контрреволюция, почему народ не выступил на защиту своей Советской власти, почему из тех 18 – 20 миллионов коммунистов, числившихся членами партии, лишь несколько сот тысяч оказались ей верны, в чем истоки всего того, что произошло с нами за последние годы? Откуда, наконец, в стране Советов, где, казалось бы, всё было сделано для воспитания нового высоко сознательного человека, живущего интересами страны и общества, вырос, как поганка, обыватель, мещанин, т.е. человек с фактически буржуазным сознанием, моментально всплывший везде – в правительстве, в бизнесе, в науке, в культуре? Где и когда он внедрился в здоровое тело нашего общества, подтачивая и разрушая его?
Истоки.
Начнем с того, что страна наша крестьянская изначально. Социалистическая революция в России произошла в условиях подавляющего превосходства крестьянского населения над остальными классами и социальными слоями общества. В этом состоит исключительная особенность социалистической революции в нашей стране. Недаром даже среди левых партий накануне Февральской революции преобладали вовсе не большевики, а социалисты-революционеры, т.е. выразители интересов мелкобуржуазных слоев, прежде всего крестьянства, его зажиточной части.
Наша страна в течение почти всей ее истории вынуждена была развиваться рывками, перескакивая через целые этапы исторического развития, чтобы уцелеть, выжить в условиях постоянной внешней угрозы. В течение десятилетия мы проходили путь, на который другие страны затрачивали века. Естественно, что при этом мы постоянно тащили на себе груз нерешенных проблем и пережитков прошлого, осложнявших наше поступательное движение. Так произошло и после Октябрьской социалистической революции. Как писал В.И.Ленин, мы строили социализм, оставаясь по колени в грязи старого общества.
Можно победить внешних врагов, внутреннюю контрреволюцию в ее наиболее явных проявлениях. Можно изменить общественную систему, государственный строй, создать новую экономику и т.д. Но самой трудной задачей остается именно борьба за воспитание нового человека, изживание индивидуалистического обывательского сознания.
В.И.Ленин начал эту борьбу, а продолжил И.В.Сталин. Именно при нем обывателю-мещанину с мелкобуржуазным сознанием жилось хуже всего. Обыватель жил в страхе и ненависти, потому что ему приходилось делать то, чего он совсем не хотел – строить социализм. А это означало, что он сам себя уничтожает как носителя буржуазного начала. Именно поэтому обыватель смертельно ненавидел и социализм, и Сталина. Именно поэтому и сейчас Сталина ненавидят либералы и нынешняя правящая бюрократия.
Обыватель тем и отличается от человека идейного, что всех меряет по себе, живет завистью и шкурными интересами, не видит дальше своего носа, но имеет чрезмерное самомнение и жаждет увеличения благосостояния любыми доступными способами, в том числе и преступными. Обыватель трус. Но становится диким и необузданным, когда ощущает безысходность или безнаказанность. Именно мелкая буржуазия составила массовую опору как левацких, так и крайне правых, фашистских политических течений. Но, одновременно, обыватель обладает удивительным свойством приспосабливаться к обстановке, внедряться, как паразит, в чуждую ему общественную систему, питаться ее соками. Так и произошло в нашей стране.
В начале 20-х гг. мелкобуржуазные партии в Советской России потерпели поражение. Их лидеры либо эмигрировали, либо, вступив на путь открытой контрреволюционной борьбы, были уничтожены. А мелкие “вожди” и рядовые члены вынуждены были смириться перед новой властью. Более того, многие из них стали сотрудничать с ней, пойдя на работу в советские учреждения, в армию, вступали в партию большевиков. Можно сказать, что многопартийность, ликвидированная организационно в ходе гражданской войны, переместилась теперь в саму ВКП (б). Это отразилось во внутрипартийной борьбе в 20 – 30-е гг.
Если в самой партии шли трудные процессы преодоления мелкобуржуазных уклонов, то что говорить о массе населения, особенно, когда в стране была принята новая экономическая политика. Под жестким партийным и государственным контролем ожившая буржуазия и НЭП были использованы для экономического оздоровления страны и в целях построения социализма. Но ее экономическое оживление не могло не сопровождаться оживлением идеологическим, нашедшим поддержку даже среди некоторых руководителей партии. Тем более, что носители мелкобуржуазного сознания, увидев выгоды для своего личного существования, усиленно пробивались в верхние эшелоны партийной власти. В их числе оказался и Никита Хрущев, человек, который положил начало разрушению нашего советского государства.
Личность.
В.М.Молотов и известный партийный и государственный деятель Д.Т.Шепилов вспоминают, что производственная и партийная юность Хрущева обставлены легендами, которые сам Никита Сергеевич сочинил. В действительности известно, что изначально он был троцкистом, никогда не был настоящим рабочим, тем более шахтером, как он утверждал, в партию вступил в 1918 г., толком нигде не учился. Его пребывание в техникуме и Промакадемии были ознаменованы тем, что неусидчивый Никита органически не мог учиться и через пару месяцев с головой уходил в комсомольскую и партийную работу. При этом вовсе не по причине его высокой партийной сознательности. Главным в этом увлечении партийной работой было неуемное желание руководить, ораторствовать, быть на виду, быстро добиться материального и бытового благополучия. “Шахтер” Хрущев “разрабатывал” партию, как старатель золотую жилу. Своим по-мещански практическим умом он понял одно: хочешь добиться чего-либо, лезь на партийный верх. И он лез всеми силами. Его главными качествами были хорошие организаторские способности, умение быть ретивым исполнителем и приспособливаться к любой ситуации. Поэтому еще до войны Хрущев оказался в высшем эшелоне партийного и государственного руководства.
Будучи человеком не очень грамотным, он ничего в марксизме не смыслил, а лишь повторял заученные штампы, догмы и действовал по наитию. Но обладал при этом удивительной способностью соответствовать ситуации и огромным инстинктом самосохранения, что позволяло ему не просто выживать, но и производить впечатление, нравиться и быть полезным. Его кажущаяся простота и открытость, явная провинциальность многих сбивали с толку. Такие разные и неординарные люди как Л.П.Берия, Г.М.Маленков, Г.К.Жуков и другие считали его хоть и недалеким человеком, но своим, рубахой-парнем и вовсе не видели в нем реального политического соперника. Даже умница В.М.Молотов, прозорливо разгадав мелкобуржуазную сущность Хрущева и неоднократно отмечая явный правый уклон в его образе мыслей и действиях, списывал это на хрущевскую малообразованность и не предполагал, что тот доберется до высшей власти.
Обстановка в мире.
Хрущев оказался у власти в важный исторический период, который стал своеобразным перекрестком нашей и общечеловеческой истории.
После победы военная и экономическая мощь СССР резко возросли. В мире произошли изменения в пользу демократии и социализма. Международный капитализм лихорадочно искал способы не только прямо противостоять социализму, но и пути преодоления внутренних тяжелейших проблем, вызванных поражением фашизма в войне. Несмотря на то, что вместе с СССР победу разделили США и Англия, т.е. страны империалистические, объективно потерпел поражение именно капитализм в лице своего самого реакционного порождения – фашизма. В послевоенный период авторитет СССР и социализма вырос необычайно высоко. Об этом говорят новая роль нашей страны в мире, появление новых социалистических государств, выход на передовые позиции коммунистических и рабочих партий во многих странах, растущее национально-освободительное движение в колониальных империях. С точки зрения буржуазных идеологов и политиков, следовало сбить эту волну роста авторитета социализма и влияния марксистской идеологии. А внутри буржуазного лагеря нужно было найти возможности модернизации капитализма. Это ясно видно не только на примере чередования у власти консервативных и либеральных партий, утверждения в экономике и политике неолиберализма и неоконсерватизма. Возрождались реакционные, в том числе неофашистские, движения. Попытались также проникнуть в сферу левой идеологии не только у себя, но и в социалистических странах. Появились многочисленные левацкие организации. Отличительная черта всех – мелкобуржуазная революционность, ультралевая фраза, отход от марксизма-ленинизма, его ревизия, попытки его мелкобуржуазного истолкования применительно к новым условиям или полный отказ от учения и борьба с ним. Эти группировки отражали объективные тенденции полевения западных обществ в условиях НТР и порожденных ею социально-экономических процессов. Ранее привилегированные инженерно-технические и прочие интеллектуальные слои превращались в открыто эксплуатируемых “пролетариев умственного труда” и политически радикализировались. С другой стороны, многочисленные леваки отражали борьбу буржуазии с реальным коммунистическим движением, марксизмом как таковым. Для нас важно понять главное: на Западе шел активный интеллектуальный поиск, направленный на создание идеологических конструкций, противостоящих марксизму или его разрушающих. Это был новый широкий фронт идеологической борьбы. И мы должны были принять этот вызов во всеоружии. Но были к этому не готовы, т.к. во главе партии оказались люди не просто догматически мыслившие, не развивавшие марксизм, а вообще не марксисты. Пусть жульнически, но Запад переиграл нас на идеологическом поле. Через нашу новую послевоенную “интеллектуальную элиту” он нашел и отчасти создал почву для проникновения и укоренения в слоях советского общества чуждых идеалов и ценностей.
Наш официальный идеолого-пропагандистский аппарат во главе с М.А.Сусловым не нашел адекватных времени ответов, не отреагировал должным образом на новые явления, выдвинутые процессами НТР и глобализации. Идеология в СССР стагнировала и, что просто чудовищно, заимствовала идеи у буржуазной науки, повторяя зады исследований западных философов, социологов, экономистов. Этим жили некоторые академические институты. Создалась целая прослойка интеллектуалов, мысливших не по-марксистски. Они оказались, в том числе, и в ЦК КПСС на ролях советников, консультантов, спичрайтеров, строчили выступления вождей, программы партии и постановления по важнейшим вопросам. Начиная с Хрущева, ни один высокий советский партийный руководитель, в отличие от предшественников, ничего сам не написал. Значительная часть населения воспринимала идеологию и пропаганду как нудную обязаловку. Несмотря на многочисленные университеты марксизма-ленинизма, школы и кружки, где многое происходило формально, партийная масса становилась политически и идеологически инфантильной и заражалась обывательскими инстинктами. Мы терпели поражение не в экономике, не в военной области, не в науке и культуре. Мы терпели поражение идеологическое. Создав мощное социалистическое государство, одержав великую Победу, мы совершили гигантский прорыв в будущее, но не сумели этого осознать, по-настоящему оценить.
Хрущев у власти.
На мой взгляд, корни нынешнего состояния России лежат в эпохе борьбы за власть после смерти И.В.Сталина. Между Хрущевым и рядом крупных партийных и государственных деятелей в середине 50-х гг. развернулась схватка за власть. Результаты ее известны. Сначала разоблачение и ликвидация Берии, а потом - “разгром антипартийной группы Молотова – Маленкова – Кагановича и др.”.
В конечном итоге Хрущев переиграл всех. Вместе с ним победила и его линия на экстенсивное развитие страны и экономики и, что важно отметить, на неприкосновенность, т.е. фактически – безответственность партийно-бюрократического аппарата. При И.В.Сталине чиновник любого ранга твердо знал, что его положение не спасает от самой высокой ответственности. От Хрущева же аппаратчики получили индульгенцию. С этого начался процесс усиленного разложения и перерождения правящей бюрократии.
Именно в этот момент разворачивалась гонка вооружений и конкуренция с США и Западом по всем параметрам и по всему миру. Они были нам навязаны. Но следовало подумать об адекватности и соразмерности ответа. Хрущев, в силу своего характера, своих мелкобуржуазных представлений и своей необразованности, в качестве базовой стратегии развития принял лозунг “догнать и перегнать Запад во всем”. В самой сути этого лозунга было заложено представление не о нашей самобытности, не об уже реализованных преимуществах социализма, не о разумной достаточности, а о какой-то нашей неполноценности и неправильности. Конечно, и В.И.Ленин говорил о необходимости для Советской России “догнать передовые страны”. Но у него речь шла о научно-техническом, культурном, промышленном прогрессе, о передовой организации управления и производства, на основе которых должно было развиваться совсем другое общество. Ленин рассуждал с позиций политика 20-х гг., возглавлявшего разрушенную войнами и интервенцией отсталую в культурном и техническом плане страну. Хрущев же возглавлял вторую державу в мире, которая достигла огромных успехов в экономике, науке, культуре, сумела победить в невиданной ранее войне именно благодаря достижениям социализма. И он должен был диалектически смотреть на дальнейшее развитие, а не гнаться за буржуазным Западом. Однако о диалектике он лишь слышал. Хрущевский лозунг “догнать и перегнать” носил глубоко обывательский характер, отражавший мелкобуржуазный взгляд на развитие и его цель. Речь шла преимущественно о банальном потреблении без учета наших реалий. Иначе говоря, мы должны были обыгрывать противника на его поле и по его правилам. Хрущев психологически развернул население в сторону общества потребления, не учитывая традиций наших народов, экономической целесообразности, возможностей государства и вероятных социально-психологических, идеологических, политических последствий. Очевидные преимущества социализма, которые позволяли любому человеку нормально, здорово и творчески развиваться, были замазаны и подменены обывательскими потребительскими идеалами и инстинктами – “у них лучше, больше, красивше”. А Запад превратился в блистающую витрину бесконечного количества нужных и не очень товаров, т.е. настоящую обывательскую идиллию. Подобно дикарю, ослепленному блеском консервной банки и отдающему за дешевые побрякушки настоящие драгоценности, хрущевский обыватель за жевательную резинку и кока-колу готов был отдать завоевания социализма, что, к сожалению, и произошло.
Хрущев незаслуженно пожинал плоды побед, которые были заложены еще при И.В.Сталине. Прорыв в космос позволил Никите Сергеевичу на время отвлечь внимание от назревавших по его же вине социально-экономических проблем, включая провалы в экономике, рост цен, недовольство населения хрущевской политикой. Курс на экстенсивное развитие (например, непродуманный и безудержный подъем целины в ущерб восстановлению и развитию коренных сельскохозяйственных районов России, принявших на себя основной удар войны и разорения) внешне выглядел эффектно, в том числе и в пропагандистском плане. Но не оправдал себя. Уже к началу 60-х гг. мы залезли в государственные резервы, а потом стали регулярно закупать зерно за границей, финансируя чужих производителей. Безоглядные “разоблачения культа личности” для Хрущева служили прежде всего его собственному оправданию и самоутверждению, а вовсе не восстановлению ленинских норм. Сам Никита Сергеевич нарушал эти нормы, не моргнув глазом, отставляя от постов, засылая куда подальше от столицы или отправляя на пенсию всех, кто был не угоден или не согласен с его авантюристическим курсом. Не сажал и не расстреливал лишь потому, что сам себе этот путь отрезал. Зато унижал нещадно. Это хорошо на себе узнали Молотов, Жуков, Шепилов, Фурцева и многие другие. Все это партию не оздоровило. Зато подорвало её авторитет, как и авторитет социализма на мировой арене. Он, как загулявший купчик, промотал и растранжирил гигантский моральный капитал, добытый кровью и потом нашего народа. Его самонадеянная политика “несущегося без узды Савраса” едва не привела к ядерному столкновению с Америкой в 1962 г.
Таким образом, хрущевская политика обернулась для СССР безумными затратами внутри и вне страны, авантюрными экономическими и политическими решениями, демагогией, идеологическим и пропагандистским пустозвонством, расколом и ослаблением мирового коммунистического движения, потерей международного авторитета, ориентиров, идеалов, обмещаниванием населения, перерождением партийных кадров, застоем в идеологии.
Даже знаменитая “оттепель”, за которую Хрущева так любят наши и западные либералы, случилась не по его желанию. Он использовал её как социальный фон, на котором, громя политических предшественников и противников, утверждал свою власть. Хрущев и либерализм мало совмещаются. Никита Сергеевич олицетворял собой мелкобуржуазный радикализм. Хрущевская оттепель породила “шестидесятников”, этих “взрослых детей” социализма. Почему социализма? Да потому что они всем ему обязаны: спасенной от фашизма жизнью, лучшим образованием, даже своим творчеством. Чарующими голосами сирен увлекали они нас, неиспорченных романтиков, “за туманом и за запахом тайги”, сидя в домах творчества и на государственных дачах, развлекая номенклатурщиков. А сами твердо верили в дензнаки и, подобно кукушатам, поганили и разоряли гнездо, давшее им жизнь. И мало чем рисковали, ибо были твердо уверены, что “Запад им поможет”. Теперь вот профессорствуют в зарубежных университетах, получив заработанную синекуру, предоставляя народу разбираться в той грязи, в которую они его втянули.
Выиграв чудовищную войну, мы понесли невосполнимые человеческие потери. В значительной мере было выбито целое поколение советских людей новой формации. Это было здоровое физически и нравственно поколение, дети рабочих и крестьян, многим из которых, если бы не война, предстояло стать руководителями промышленности, учеными, творческой интеллигенцией, военачальниками, политическими лидерами. Это был золотой генофонд нации. Нам сейчас не хватает не только их самих, но и их детей, которые были бы воспитаны настоящими советскими людьми, настоящими коммунистами, которые не продаются за чечевичную похлебку. Уцелевшая часть этого генофонда осуществила послевоенное восстановление и развитие страны, а сейчас приняла на себя удар контрреволюции и вместе со своими детьми до сих пор противостоит яростному натиску врагов страны и коммунизма. Они и составляют основу КПРФ.
Военные потери существенно повлияли на постепенное изменение кадрового состава партийного и хозяйственного руководства всех уровней. В новых условиях, предприимчивые и амбициозные люди стремились реализоваться на общественной, комсомольской и партийной работе. Хрущевская политика неприкосновенности номенклатурных кадров, их безответственности, а также внедрение обывательских стандартов в мышление давали возможность существовать в партии людям, умевшим вовремя говорить правильные слова, но мыслившим и действовавшим в личных, корыстных интересах. “Слишком много у нас хрущевых оказалось!”, - горестно восклицал в своих воспоминаниях В.М.Молотов. Значительное число современных бизнесменов и политиков разных мастей вышли из среды партийных, комсомольских работников и профсоюзных барышень. Их даже предателями интересов КПСС, Родины, трудящихся не назовешь, т.к. они никаких интересов, кроме своих, и не защищали. Именно хрущевщина позволила Горбачеву, Ельцину и им подобным пробраться в партийные верхи. Вся сложившаяся атмосфера способствовала выдвижению всяких приспособленцев, выдвижению детей номенклатуры, которые через престижные вузы, блат и кумовство делали быструю карьеру и к 80-м годам оказались у руля власти.
Отсюда и безвольная сдача позиций либералам в конце 80-х – начале 90-х гг., измена воинской присяге, продажа национальных интересов, воровство и коррупция. Отсюда – разрушение страны. А в основе всего – хрущевщина как немарксистское мелкобуржуазное политическое и идеологическое явление, паразитирующее на коммунистической партии и социалистическом государстве, внедряющееся в политическое и хозяйственное руководство и, при благоприятных условиях, разрушающее партию и социалистическое государство. Этому страшному явлению еще следует дать более глубокий и разносторонний классовый анализ, понять причины, порождающие его, и причины его живучести. Если мы с ним не разберемся, то не сможем двигаться дальше.
Сергей Костриков.