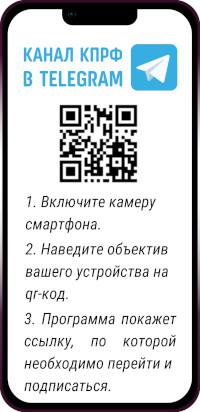Дорога жизни №4
Навстречу 60-летию Великой Победы.
Дорогой жизни
шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы
многих к многим,
Еще не знают
на земле
Страшней
и радостней
дороги...
(Ольга Берггольц)
Наша страна заплатила за Победу в Великой Отечественной войне двадцатью миллионами жизней.
Это помнят все, кто родился в СССР.
Но эту память хотят отнять у наших детей.
Им навязывают новые представления о II Мировой войне.
Нельзя этого допустить.
Областное отделение КПРФ продолжает кампанию «Навстречу 60-летию Великой Победы».
Наша задача - рассказать правду о войне.
В невероятно тяжелых условиях ноября 1941 года, когда фашистские полчища обрекли на голод и холод зажатый в тиски блокады великий город Ленина, именно коммунисты сумели мобилизовать народ на борьбу с гитлеризмом. У них была одна привилегия - первыми принимать бой с врагом. Вот и в тот далекий ледяной ноябрь коммунисты земли Ленинградской сделали, казалось, невозможное: организовали движение по знаменитой Дороге Жизни, дав шанс выстоять и победить северной столице.
Хроника огненных дней.
В ноябре 1941-го.
8 ноября пал Тихвин. Враг перерезал железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру доставлялись грузы, предназначенные для осажденного Ленинграда. Положение еще больше усложнилось. Пришлось провести новое снижение продовольственных норм. На этот раз оно коснулось войск фронта. С 8 ноября суточный хлебный паек каждого военнослужащего урезан на 200 граммов.
12 ноября наши войска начали наступление с целью овладеть Малой Вишерой. Хотя проводилось оно на значительном расстоянии от Тихвина, это первый этап очень важной для Ленинграда тихвинской операции. Только освободив дорогу Тихвин - Волхов, можно хотя бы в минимальном объеме снабжать через Ладожское озеро осажденный Ленинград продовольствием, оружием и боеприпасами.
19 ноября после обработки и систематизации разведывательных данных о ледовой обстановке на Ладожском озере найдено единственно возможное направление трассы для связи Ленинграда с Большой землей - от мыса Осиновец к островам Малый и Большой Зеленцы и далее на Кобону и Лаврово.
Военный совет фронта принял решение открыть Ладожскую трассу с 22 ноября. Дорожники спешно расчищали ее от торосов и снега, перекрывали трещины, ставили дополнительные вешки.
22 ноября. Проведенная накануне разведка ледовой дороги закончилась успешно, и 22 ноября, уже в сумерках, на лед сошло 60 автомашин с санями на прицепах. Колонна ленинградских автомобилистов шла в Кобону за хлебом. Вел ее командир 389-го автотранспортного батальона коммунист майор В.А.Порчунов.
24 ноября лед на Ладожском озере оказался в этот день настолько хрупким, что грузовики везли всего лишь по два-три мешка муки. Несколько машин затонуло. За весь день в Ленинград доставлено только 19 тонн продовольствия.
26 ноября начался решающий этап контрнаступления советских войск под Тихвином. 52-я и 4-я армии, подчинявшиеся непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования, нанесли сильный удар по противнику. В этот же день 54-я армия Ленинградского фронта начала наносить контрудары по вражеским частям, наступавшим на Волхов.
29 ноября после трехдневных упорных боев 54-я армия Ленинградского фронта, действующая с внешней стороны блокадного кольца, отбросила противника к югу от железной дороги Волховстрой - Тихвин.
Легенда и быль.
А. Сапаров
(из «Ладожской хроники»)
В ту зиму родилась легенда о водителе, которого застигла на озере пурга. Все ветры Ладоги дули ему в лицо, все батареи врага открыли огонь, но это не остановило храбреца. Он вез хлеб для Ленинграда, - тонну черного хлеба, которым можно спасти от голодной смерти пять тысяч человек. Если ему становилось невмоготу, он вспоминал своих голодающих детей и снова мчался вперед. Наконец, не выдержал мотор его машины, замолк, скованный морозом. Напрасно пытался оживить его водитель, напрасно рвал из последних сил заводную ручку, - мотор не хотел оживать. Тогда этот герой, не найдя другого выхода, облил свои руки бензином и зажег их, как факел, чтобы вдохнуть жизнь в застывший мотор.
Такова легенда, которую из уст в уста передавали в солдатских землянках. Нечто подобное случилось на Ладоге и в действительности.
Было это так.
Из-за поломки машины водитель Филипп Сапожников отстал от своей колонны. На озере его застигла пурга. Она засыпала снегом ветровое стекло, и Сапожникову пришлось вести свой «газик» вслепую.
Пурга завывала с такой силой, что временами казалось, будто машина совсем не движется вперед. Но коммунист Сапожников не хотел сдаваться. Позади оставался длинный путь, а впереди, в каких-нибудь десяти километрах, был ленинградский берег.
Важней всего в таких случаях - не сбиться с пути, не заскочить по ошибке к фашистам. Часто выскакивая из кабины, Сапожников пытался разглядеть хоть какие-нибудь признаки дороги. Всё было напрасно. Темная беззвездная ночь нависла над Ладогой, а в ночи свирепствовала лютая пурга.
В довершение всех несчастий заглох мотор. Сапожников был опытным шофёром и знал, что если дать мотору застыть, то никакими силами не заведешь потом машину. Он испробовал все средства, - мотор молчал. Тогда водитель скинул свою меховую рукавицу, облил ее бензином и, надев на заводную ручку, зажег.
Раздуваемое ветром пламя доставало руку, раскалившийся металл обжигал пальцы. Стиснув зубы, Сапожников терпел. Несколько раз он выпускал горящую рукавицу, не в силах вынести боли, потом снова подносил ее к мотору. Обожженные пальцы Сапожникова покрылись волдырями, а он всё держал заводную ручку с ярко пылающей рукавицей, стремясь во что бы то ни стало отогреть мотор.
И добился своего: мотор загудел. Теперь оставалось проехать несколько километров, чтобы сдать груз на склад. Начала стихать пурга, и Сапожников отчетливо увидел огоньки западного берега. Изредка там вспыхивала и быстро, словно испугавшись своей смелости, гасла яркая автомобильная фара. Берег был так близко, что, казалось, стоит разогнать машину, и мигом доберешься до склада.
Эти последние километры стали для Сапожникова самыми мучительными. Обожженные пальцы не давали взяться за баранку. Огромным усилием воли Сапожников заставил себя сдвинуть машину с места, но удержать баранку не смог. Он уперся в нее локтями и так повел свой «газик».
Его машину, которая шарахалась из стороны в сторону, словно пьяная, увидели регулировщики, стоявшие у спуска на озеро. Они решили, что какой-нибудь разгильдяй шофёр хватил лишнего и теперь может застопорить всё движение, остановившись у подножия крутого спуска. Но, подбежав к машине, строгие регулировщики застыли в изумлении. В кабине сидел, как-то неестественно растопырив пальцы, водитель с перекошенным от боли лицом.
- Позовите кого-нибудь из шофёров! - прохрипел он регулировщикам. - Самому мне не поднять машину в гору...
Так коммунист Сапожников привез голодающим ленинградцам тонну черного хлеба, того самого, про который Вера Инбер писала, что он «белого белей».
Когда к машине прибежала запыхавшаяся санитарка и, глянув на ожоги водителя, заторопила его в палатку медчасти, Сапожников медленно покачал головой:
- Обожди, не торопись с лечением...
Ему хотелось сперва сдать на склад привезенный груз, самому убедиться, что всё в порядке, а потом уж идти к медикам. Так он и поступил, упрямая душа.