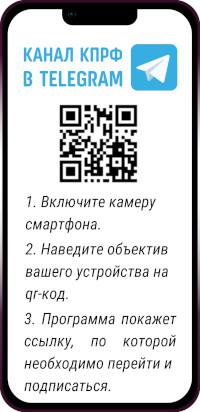СТОЛЫПИН БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА
Неделю назад омские телевизионщики не без удовольствия показали сюжет об открытии в нашем аграрном университете мемориальной доски П. А. Столыпину. Казалось бы, какая связь между убитым в 1911 году в Киеве премьер-министром России и расположенным в далекой Сибири аграрным вузом? Какая параллель? Оказывается, есть, и причем, по мнению ректора ОмГАУ, прямая и очень весомая. На голубом экране Колычев разъяснил телезрителям, что его вуз сельскохозяйственный, а Столыпин – великий преобразователь сельского хозяйства, автор дореволюционной реформы, получившей его имя. Вот вам к тому же и прямая параллель с сегодняшним днем: нынешняя власть тоже реформирует село, а имя Столыпина давно взято для идеологического обеспечения этой реформы. Дескать, и тогда, и сейчас речь идет о рождении крепкого сельского хозяина, раньше – хуторянина и отрубщика, теперь – фермера. Правда, судьба этих реформ одинакова – обе позорно провалились, больно ударили по селу. Вот и для аграрного университета нынешняя реформа оказалась весьма болезненной. Обучение все более становится платным, и это закрыло путь к высшему образованию многим талантливым сельчанам. Да и трудоустройство выпускников под вопросом – ограбленному селу не до специалистов, и они работают где угодно, только не в сельском хозяйстве. Разве ректор Колычев не знает об этом? Знает, конечно. Но, открывая мемориальную доску, он, вопреки всему, дал высокую оценку реформам.
В начале ХХ века Столыпин усиленно разрушал сельскую общину, поощряя создание отрубов и хуторов на крестьянской надельной земле. Реформаторы конца ХХ века, начиная перекройку деревни, ставили перед собой главную задачу - уничтожить оплот Советской власти - колхозы и совхозы, - растащить землю по дворам, сделать сельское хозяйство частным. Но, по данным серьезных ученых (не нынешних конъюнктурщиков!), за 10 лет столыпинской реформы из общин вышло всего 26 процентов крестьянских дворов. За десятилетие нынешней капиталистической реставрации ее «отцы» сумели создать только 260 тысяч фермерских хозяйств, количество которых год от года сокращается. Что же касается столыпинского переселения крестьян, то с 1908 по 1911 годы от 10 до 50 процентов их, помыкавшись по стране, вынуждены были вернуться в родные края, но уже без земли и инвентаря. Свободный оборот земли только усилил обезземеливание более половины крестьянских дворов, продуктивность сельского хозяйства падала, средняя урожайность зерновых в России начала ХХ века, как и прежде, не достигала 7 (!) центнеров с гектара.
Единственное, что получилось тогда и сейчас, - это рождение тонкого слоя крупной сельской буржуазии - 4-5 процентов от всех крестьянских хозяйств. Она жировала тогда, жирует и сейчас, в основном за счет спекуляции землей и продукцией, выращенной влачащим жалкое существование крестьянством.
«Новая земельная политика правительства и дворян, - есть ВСЕ, что могли сделать господа дворяне, оставляя неприкосновенною свою собственность и свои доходы… И это «ВСЕ» оказалось НИЧТО. Деревня еще более разорена, еще более озлоблена. Озлобление деревни страшное». Так писал В. И. Ленин в начале ХХ века. Но как актуальны эти слова и сегодня!
Впрочем, было бы крайне вредно и несправедливо замазывать имя Столыпина в истории однозначно черной краской. Для Европейской России, откуда шел основной поток переселенцев, столыпинская реформа стала откровенной бедой, а вот для малолюдной Сибири, где в основном и оседали переселенцы, - мощным толчком роста народонаселения и производительных сил.
Неоднозначна и биография Петра Аркадьевича Столыпина. Далекий от нужд русского народа холеный дворянин, родившийся в Германии (в Дрездене), он с детских лет впитал в себя чуждый России западный образ жизни, его культуру, его мысли, его образ действий. И потом всю свою жизнь посвятил тому, чтобы перенести все эти западные либерально-буржуазные ценности на русскую почву. Он не понимал России, Запад был ему ближе, понятнее, роднее. С другой стороны, он был по-своему, безусловно, человеком чести, не лишенным в начале своего чиновничьего пути чувства сострадания и человечности. Будучи саратовским губернатором, он лично помогал страждущим и даже построил на свои средства несколько сельских церквей, открывал приюты, многое сделал для здравоохранения и образования крестьян. Но (опять это «но»!). «Так было и так будет», - ответит он на запрос думцев о неправомерных казнях в первую русскую революцию и войдет в историю вешателем («столыпинские галстуки»).
Но вот другой факт. Отец Столыпина был личным другом Льва Толстого, они вместе воевали в осажденном Севастополе и даже в боевых условиях вместе выпускали рукописный сатирический журнал. И когда в 1908 году Толстой обратился к Столыпину с заступничеством за некоего Гусева, арестованного в Ясной Поляне «за преступные речи», тот сразу же освободил Гусева, о чем не преминул в почтительных выражениях оповестить великого писателя.
Как отец, он очень переживал за старшую дочь, у которой во время взрыва эсерами дачи на Аптекарском острове раздробило ступни ног, за четырехлетнего сына, которого сам разыскал и извлек из-под обломков. Но слезы на глазах у Столыпина видели, кажется, только однажды - во время похорон погибшего при взрыве старого швейцара, которого он знал с молодости.
Словом, Столыпин был неоднозначным человеком. Неоднозначна была и его поездка в Омск в августе 1910 года. Вместе со своим ближайшим сотрудником Кривошеиным (главноуправляющим землеустройством и земледелием) он побывал в Казачьем и Кафедральном соборах, где отстоял службу, хотя, как отмечали современники, Столыпин с детства не любил длинных православных церковных служб с коленопреклонением и битьем поклонов. В здании военного собрания принял ряд депутаций и представителей различных городских учреждений. В тот день извещенные о приезде председателя совета министров переселенцы огромной толпой молча ждали Столыпина, чтобы подать ему личные прошения. Но тот их не принял, полиция разогнала толпу, сказав, что частные прошения будут приниматься в Общественном собрании.
Но в отчетах омских газет встреча в Общественном собрании не упоминается. Выходит, в Общественном собрании Столыпин так и не побывал, стало быть, ни с кем из переселенцев так и не встретился. По данным газеты «Омский телеграф» (№ 84 за 26 августа 1910 года), в руки Столыпина попали всего два частных прошения: крестьянин Воробьев силком прорвался в первый ряд и лично смог подать ему свою жалобу на действия Переселенческого управления, да во время отъезда премьер-министра с пристани казачка Мороженникова метко бросила в его коляску письмо, в котором просила о помиловании своего несовершеннолетнего сына, осужденного военно-окружным судом на 15 лет каторги за «экспроприацию» в период революции 1905 года.
За два дня в Омске (24 и 25 августа) и на обратном проезде через Омск из Новониколаевска (Новосибирска) 4 сентября Столыпин и Кривошеин посетили переселенческое управление, переселенческие склады и лесопилку, лавку со съестными припасами, переселенческую больницу и даже барак со спящими переселенцами. Плюс была поездка на молочную ферму и в убежище для бедных сирот. Они передали на нужды детей какую-то сумму (сумма не оглашалась).
В целом нельзя признать такие тщательно подготовленные посещения без встреч и бесед с людьми очень уж плодотворными, ведь основной задачей поездки по Сибири было личное ознакомление с нуждами переселенцев.
Для нашего региона никаких особых улучшений Столыпин не сделал. Например, не отменил печально известный Челябинский «перелом» хлебных тарифов, который долгие годы гибельно отражался на сельском хозяйстве Западной Сибири, не поддержал просьбу учредить в Омске политехнический институт (якобы в Томске такой есть, а два для Сибири слишком жирно). Ознакомился он и с докладной запиской главного комиссара будущей Западно-Сибирской промышленной и сельскохозяйственной выставки генерала Катанаева. Потом, в беседе с губернатором, Столыпин отметил нужность и полезность выставки, но уточнил, что на «финансовое вспомоществование от правительства рассчитывать не следует».
С другой стороны, нельзя не отдать должное личному мужеству и самоотверженности Петра Аркадьевича. В то лето в Омске свирепствовала холера, причиной которой стало огромное скопление переселенцев и антисанитария. На 11 августа 1910 года заболевших числилось 227 человек, из них 118 умерло. По городу ходила едкая эпиграмма:
Омич быть может смело горд:
В пути холерного прогресса
Опережена уже Одесса.
По Думской улице в холерный барак на телегах непрерывно подвозились гробы и кресты, что очень нервировало горожан. А на базарах отмечалась невиданная дешевизна фруктов - омичи боялись их есть, чтобы не заразиться. За два дня до приезда Столыпина по улицам города прошел мощный крестный ход, а в Кафедральном соборе - молебствие об избавлении Омска от холеры.
Столыпин не побоялся приехать в холерный город и в первый же день посетил холерный барак. Городские власти, по-видимому, совсем не ожидали от него такой смелости и не подготовились к встрече. Царящие здесь антисанитария и откровенно плохие условия содержания больных привели Столыпина в негодование.
Мужественный поступок? Несомненно. Добавлю, что на обратном пути из Новониколаевска Столыпин вновь приехал в этот барак, больше часа пробыл там, беседуя с медперсоналом и больными. О его впечатлениях от повторного посещения барака «Омский телеграф» умалчивает. Но, наверное, они были все-таки не столь удручающи, как в первый раз.
Теперь некоторые выводы.
В истории Российского государства П. А. Столыпин, без сомнения, остался как один из самых видных деятелей периода последнего царствования и, пожалуй, наиболее сильным премьер-министром. По крайней мере, после него никто из руководителей царского кабинета министров не был столь ярок и подготовлен к этому нелегкому виду деятельности.
Впрочем, человек может быть хорош или плох, но главным в его оценке являются конкретные результаты того дела, которому он служит. Отвлечемся от того, что Столыпин был верным слугой царю, был ярым приверженцем самодержавного строя. Скажем так: он служил России в специфических условиях своего времени (и это будет правдой!). Ну и что? Каковы итоги этой службы? А ничего! Реформа сельского хозяйства провалилась, она официально была отменена уже буржуазным Временным правительством 28 июня (11 июля) 1917 года, как не оправдавшая себя. Борьба с революцией и революционерами, которую упорно и жестко вел Столыпин с помощью своих «галстуков», закончилась крахом, революция все равно победила, похоронив прогнивший царский строй.
Так стоит ли возвеличивать память о таком человеке, возводить его на пьедестал? Мало ли, что он был в принципе неплохим человеком! Или морским флотоводцем и известным ученым-гидрографом и путешественником, как адмирал Колчак, или храбрейшим из храбрых офицеров, как характеризовал генерала Каппеля тот же Колчак, или патриотом буржуазной России, как Деникин или Врангель… Все они ушли «в пассив» истории за свои дела, за то, что шли против большинства народа и лили его кровь. Реанимировать их - дело гиблое. Ибо это значит реанимировать их неудавшуюся, а то и прямо преступную деятельность. Те, кто этим занимается сейчас, пусть не забывают судьбу своих «кумиров».
Александр ПОВАРНИЦЫН.
Администрация сайта не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.