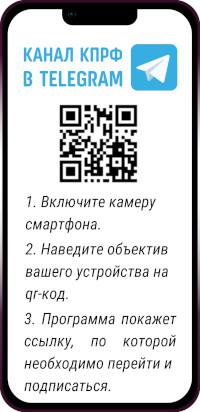Недоверие народа к власти как стимул для развития
Центральным событием российской политической жизни в мае было обращение президента с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.
Из всех посланий Владимира Путина к российским парламентариям это было самым вдохновенным, самым системным, если не сказать, самым многообещающим. И не случайно: льющийся на нашу страну «золотой дождь» нефтедолларов позволяет профинансировать решение многих задач.
Однако, как подтверждает и российская, и мировая практика, не все определяется финансированием. И какие могут быть гарантии того, что деньги не будут потрачены неэффективно или попросту разворованы?
Россия берет курс на Европу?
Ориентация России на европейский путь развития декларируется Владимиром Путиным уже давно. Однако одно дело — декларация, и совсем другое — реализация. До сих пор политика российской власти напоминала европейскую весьма отдаленно.
Но последнее послание президента к Федеральному Собранию в этом смысле может стать знаменательным, так как содержит целый ряд моментов, указывающих на то, что Владимир Путин в своих решениях действительно собирается ориентироваться на Европу.
Самый очевидный, лежащий на поверхности признак таких перемен, — это, конечно, упоминание Европейского Союза в качестве основного приоритета внешней политики (по крайней мере, в отношении дальнего зарубежья) и отодвигание на второй план США, Китая и прочих. Однако союзнические, партнерские отношения еще не подразумевают идентичности в развитии: интересы могут объединять очень непохожих партнеров. Поэтому более показательными (с точки зрения выбора направления развития) являются другие моменты из послания президента.
Это все более выраженная социальная направленность власти, ее разворот влево и апогей (на данный момент) этой тенденции — неожиданные для россиян предложения президента в сфере демографической политики. Неожиданные прежде всего по суммам, которые В. Путин озвучил, говоря о материальном стимулировании рождаемости.
На эту часть послания стоит обратить особое внимание, так как она очень необычна для российской политики. Более того, она в гораздо большей степени свойственна западноевропейскому менталитету, чем привычному российскому политическому сознанию.
Сумма, озвученная президентом — 250 тысяч рублей «материнского капитала» — необычайно высока для России (многие в нее даже не поверили), где власть привыкла подкармливать народ, но не серьезно вкладываться в него как в основное богатство страны. Даже провозглашенные год назад и реализуемые сейчас национальные проекты — это лишь подтягивание доходов части наиболее бедных категорий бюджетников до весьма невысокого по мировым меркам уровня зарплат в промышленной сфере (а призванная повысить уровень жизни россиян программа «Доступное жилье» пока терпит неудачу по вине самой же системы управления). Уже который год стремительно богатеющая Россия до сих пор твердо придерживалась линии финансово-экономического блока правительства, который, подобно Кащею, «чахнет над златом» и, стращая всех инфляцией, следит, чтобы ни один «лишний» рубль не достался народу (наглядный пример — скандальное лишение в начале этого года 80 тысяч классных руководителей обещанных в рамках национального проекта выплат по вине правительства, по-своему переписавшего формулировки в документах). Поэтому большинству россиян остается только догадываться о том, какая борьба во власти предшествовала нынешнему посланию президента, которое содержит первое в современной России настоящее предложение серьезного финансового вложения в обычного человека. И, хотя, пока этот человек, народ по-прежнему рассматривается властью не как главная цель и смысл развития страны, а лишь как средство для усиления государства и, в частности, охраны его границ, но, по крайней мере, в верхах появляется осознание необходимости вложений в человека. И на фоне этого осознания, судя по всему, финансово-экономический блок правительства с его стремлением сэкономить на собственном народе, хотя бы на данный момент, терпит неудачу.
Однако есть в вышеуказанном президентском предложении еще одна очень важная деталь, возможно, недооцененная даже самой властью (как, кстати, и СМИ). Материнский капитал имеет целью не поддержку семьи, а социальную защиту матери, женщины, в том числе ее защиту в семье и от семьи. В подтверждение сказанного предлагаем обратить внимание на следующие слова из послания В. Путина: «К сожалению — и я думаю, здесь нечего стесняться, о таких вещах нужно говорить прямо, если мы хотим решить такие проблемы, — женщина в подобных случаях подчас попадает в зависимое, а иногда, прямо скажем, и в унизительное положение в семье. И государство, если оно действительно заинтересовано в повышении рождаемости, обязано поддержать женщину, принявшую решение родить второго ребенка». Заметим, что через несколько дней после выступления с данной речью, на встрече с активистами движения «Наши» президент поднял вопрос о необходимости защиты личности, ребенка от насилия в семье.
Кое-кто скажет, что это лишь пиар, реклама. Возможно. Но каждый человек рекламирует себя в меру своего менталитета. И данным пиаром президент России продемонстрировал именно европейские черты своего сознания. Потому что на первый план был выведен человек, индивидуум, в противовес приоритету коллектива (в СССР) или семьи (в патриархальном обществе). А именно ценность и свобода личности, индивидуума лежит в основе развития Западной Европы. Надо ли говорить, что В. Путин, с одной стороны, сделал заявку на более высокую перспективу в защите человека, чем СССР (очевидно, был взят пример с наиболее развитых стран Скандинавии), тем самым отбирая политический хлеб у коммунистов; с другой стороны, продемонстрировал, что в российской власти, несмотря на все ее пороки, есть люди, которые пусть медленно, и отчасти, возможно, вслепую, но все же нащупывают дорогу в сторону развития.
Это особенно важно сейчас, когда с «легкой» руки религиозных деятелей в российском информационном пространстве все чаще можно слышать пропаганду возврата к патриархальному укладу, влекущему за собой отставание страны в развитии (см. «Лица власти» в предыдущем номере), и даже попытки пересмотра принципа универсальности прав человека под предлогом якобы имеющего место несоответствия этих «западных» ценностей российским традициям и нравственности.
Ввиду особой опасности данных попыток, мы не можем оставить без внимания вопрос целесообразности приоритета прав человека для России и их соответствия российской культуре.
Об универсальности прав человека и их соответствии российским традициям и нравственности
Аргументы тех, кто пытается модифицировать принципы Всеобщей декларации прав человека, сводятся к следующему: права человека сформулированы Западом, являются порождением западной демократии и культуры и чужды российской культуре и нравственности. Более того, у ораторов появляется привычка противопоставлять нравственность и права человека.
Все эти доводы лживы и держатся на отсутствии у широких масс россиян знаний соответствующих страниц истории, в том числе и российской.
Прежде всего, подписанная в 1948 г. Всеобщая декларация прав человека, как и создание Организации Объединенных Наций, одна из главных целей которой — защита прав человека (как записано в Уставе ООН), — это один из важнейших итогов победы во второй мировой войне. Надо ли говорить, какой вклад в эту победу внесла наша страна, и каким огромным авторитетом в мире, и в частности, в Европе, она тогда пользовалась! Поэтому утверждения, что права человека, сформулированные при активнейшем участии СССР (так как без его согласия они в принципе не могли быть приняты), навязаны России Западом — это прямое оскорбление нашей Победы, нашей истории, нашей страны.
Права человека с момента их возникновения были призваны регулировать отношения человека и власти, и соответствующие декларации имелись во многих странах, в том числе и в России. Осознание же необходимости всеобщей декларации, придавшей правам человека соответствующий принцип универсальности, было выстрадано человечеством в борьбе с фашистскими режимами, поправшими элементарные права людей и угрожавшими всему миру. Опасаясь повторения этих ужасов, мировая общественность пришла к необходимости единого для всего человечества нравственного критерия, эталона, в соизмерении с которым можно было бы оценивать нравственность разных режимов, идеологий и других социальных явлений. Таким эталоном и стали принципы, сформулированные во Всеобщей декларации прав человека. И в силу ее назначения, она должна была носить универсальный — надкультурный, надгосударственный, надидеологический, надрелигиозный — характер. По сути права человека — это концентрированное выражение основных выработанных человечеством на данный момент, единых и универсальных нравственных норм. Поэтому противопоставление их нравственности — безнравственно.
С другой стороны, чтобы понять лукавство тех, кто навязывает мнение, что права человека — это порождение европейской цивилизации и потому чужды российскому народу, достаточно вспомнить историю, убедительно свидетельствующую о том, что российский народ — это и есть часть европейской цивилизации. Более того, именно наши предки во многом являются родоначальниками современной европейской демократии (см. «Лица власти» в № 11 за 2005 г. ). И освоение россиянами территорий от Волги до Тихого океана не поменяло нашу европейскую культуру, так же как и освоение Северной Америки, Австралии и прочих земель не сделало азиатами англичан.
Поэтому несоответствие прав человека российскому менталитету — это выдумка тех, кто хочет придать этим универсальным ценностям религиозный или иной идеологический окрас. Ради своей цели эти деятели постарались так же забыть, что СССР внес огромный вклад в развитие понятия прав человека и после подписания Всеобщей декларации 1948 года.
По сути, права человека были одним из полей идеологической борьбы СССР с Западом, где каждая их сторон старалась доказать всему миру, что именно она — самая человечная, самая нравственная, самая прогрессивная. Благодаря этому в понятие прав человека было вписано много прекрасных страниц, которые, к сожалению, так и остались лишь на бумаге.
Эти документы стали неким образцом идеального человечества, которому до сих пор не соответствовало и не соответствует ни одно государство мира. А тем более попирается принцип универсальности прав человека. В любом государстве и в глазах любой власти есть те, кто «равнее», кто имеет больше прав, а есть чужие, другие.
Но, тем не менее, права человека — это идеал, к которому надо стремиться. И именно степень приближения к идеалу и характеризует уровень развития и уровень жизни той или иной страны, как и человечества в целом. Поэтому значение прав человека опасно недооценивать или искажать. Так, в российском информационном пространстве права человека сейчас крепко сплетены с западной либеральной идеологией. Причем, эту ошибку допускают как защитники прав человека, так и их противники. Но это не просто не одно и то же, а, напротив, именно ориентация общества на защиту прав человека сдерживает разгул либерализма, смягчая его негативные стороны. Именно поэтому либеральная идеология в Европе не приводит к тем пагубным последствиям, которые мы получили в России, где граждане еще не научились ценить и защищать свои права.
Наконец, последний аргумент против принципа универсальности прав человека, который можно слышать в российском информационном пространстве, — это недостаточное соответствие существующих прав человека религиозной морали, законам божьим. Но едва ли Бог в своем промысле нуждается в посредничестве земных институтов, тем более что понимание божественной нравственности религиозными деятелями в разные эпохи бывало весьма безнравственным, негуманным и небожеским. Права человека, как мы уже говорили, призваны регулировать отношения человека, гражданина и власти, государства. И очень опасно, если государство начнет брать на себя функции бога и под предлогом защиты нравственности начнет нарушать заложенные в права человека нравственные нормы.
Поэтому, не считая Россию страной, где власть соблюдает права граждан, мы все же рады отметить, что (по крайней мере, пока) власть не торопится опровергать саму целесообразность существующих прав человека, даже не смотря на то, что информационное пространство нашей страны, отражающее мнение определенной части общества, дает поводы это сделать.
Однако слова президента, декларируемые намерения и благородные принципы — это во многом лишь внешний лоск российской власти, обремененной тяжкими внутренними проблемами. Эти проблемы заставляют многих, а судя по всему, и самого Владимира Путина, сомневаться в реальном выполнении большинства задач, которые он ставит.
Слова и дела
Российская реальность такова, что благие намерения и задачи тонут в аморфно-борократическом коррумпированном болоте власти. И здесь надо отдать должное Владимиру Путину, который, похоже, нашел способ обеспечить гарантии выполнения хотя бы отдельных проектов. По сути, он уже второй год загоняет своих министров в ловушку конкретных цифр, озвученных в посланиях к Федеральному Собранию.
Действительно, скажи президент просто: повысить зарплаты в образовании и медицине, — и чиновники, перетирая в своих кабинетах эти задачи, нашли бы способы свести их реализацию к минимуму, убедительно доказав, что у России нет денег (даже при существующих ценах на нефть), либо, как и всегда, сослались бы на инфляцию. А раз президент назвал конкретно, кому сколько дать — приходится подчиняться (да и то были попытки скорректировать в меньшую сторону списки тех, кому причитались выплаты).
Заметим, что в четырех национальных проектах выполняется то, что было определено в послании В. Путина за 2005 год до мельчайших деталей, а все остальное, отданное на усмотрение министрам, пробуксовывает.
Понимая, что он нашел способ эффективного воздействия на своих чиновников, президент наполнил послание 2006 года цифрами и деталями программ, направленных на улучшение демографической ситуации и обеспечение вооруженных сил. Надо полагать, что в основном именно эти программы и будут выполняться. В отношении остальных задач ситуация дает мало поводов для оптимизма.
Очень наглядно демонстрируют обстановку, сложившуюся в российской управленческой системе, проблемы развития местного самоуправления. В своем нынешнем послании к Федеральному Собранию президент в очередной раз указал на необходимость передачи полномочий и денег на их реализацию в регионы. Действительно, нелепо из федерального центра решать все местные проблемы. Как сказал В. Путин, «давно пора прекратить из Москвы руководить строительством школ, бань и канализаций». Но федеральные чиновники не торопятся отдавать эти полномочия, так как не хотят выпускать из-под своего контроля финансовые потоки.
Коррупция? С одной стороны, да. Но с другой стороны, в регионах тоже коррупция, и федеральная власть понимает, что у нее нет никакой гарантии, что отданные местному самоуправлению деньги не будут разворованы.
Вопрос о гарантиях попадания средств тем, кому они изначально предназначены — важнейшая часть вопроса борьбы с коррупцией. И, судя по информационному пространству, российская общественность уже начала не только понимать, но и говорить о том, что единственным эффективным инструментом борьбы с коррупцией является гражданское общество, действенный контроль со стороны граждан. Борьба же с коррупцией под чутким руководством коррупционеров — это смешно. Более того, скорее всего в такой борьбе пострадают прежде всего наименее коррумпированные чиновники (система защищает себя).
Однако и среди коррупционеров есть конкуренция (верхние не очень-то хотят делиться с нижними разворовываемыми деньгами). К тому же, едва ли федеральным чиновникам, все же заинтересованным в решении острейших российских проблем, по душе нецелевое расходование средств в регионах. Как ни парадоксально, но для спокойной жизни верхов надо, чтобы внизу исполнители работали честно. Поэтому не исключено, что объективная необходимость побудит федеральную власть стимулировать создание гражданского контроля над местными властями.
Но, как видно, до такого понимания путей решения проблемы «небожители» (в отличие от общественности) еще не дошли. Поэтому федеральные чиновники в мае много говорили о грядущих крупных разоблачениях, увольнениях и коррупционных скандалах во власти (и не медлили претворять эти обещания в жизнь). Очевидно, пока в России пытаются бороться с коррупцией старыми добрыми силовыми методами. Кстати, методами, как давно поняли наши предки, неэффективными. Ведь даже Ф. Э. Дзержинский в свое время жаловался, что, несмотря на то, что он посадил на Лубянку пол-Мосстроя и пол-Госстроя, но воровать меньше не стали!
И все же, по тем или иным причинам (возможно, из-за того, что к этому не готово его окружение) Владимир Путин пока не решается сделать ставку на развитие гражданского общества и всерьез опереться на него в своей работе (хотя при популярности нынешнего президента, он имел все шансы в этом преуспеть). Судя по всему, Владимир Владимирович ищет другой путь. И не случайно в послании к Федеральному Собранию прозвучала цитата из Франклина Делано Рузвельта. Очевидно, наш президент хочет воспользоваться опытом своего американского коллеги, которому довелось выводить США из Великой депрессии. И прежде всего, Владимир Путин намерен, как и Рузвельт, внести свои жесткие коррективы в «экономический экстаз» власти и крупного бизнеса.
Однако для того, чтобы пройти путем Рузвельта, нашему президенту придется очень существенно изменить нынешнюю российскую политику. И судя по тому, что на такие изменения в послании к Федеральному Собранию не было и намека, возможно, сам В. Путин этого еще до конца не оценил.
Как и кому Рузвельт наступал на «больные мозоли»
Российской власти, действительно, приходится решать проблемы, схожие с теми, с которыми столкнулись США в начале 30-х годов ХХ века. Поэтому, а так же потому, что сам Владимир Путин в своем послании вспомнил о Франклине Делано Рузвельте, мы считаем необходимым напомнить о том, в чем же заключался его новый курс.
В 20-е годы прошлого века в США произошла абсолютизация либерально-рыночных ценностей. Под лозунгом «Больше бизнеса в правительстве и меньше правительства в бизнесе» экономика страны была практически освобождена от контроля государства. Как результат, рынок стал неуправляемым и сильно криминализированным (доходы максимальны именно в нелегальных секторах экономики).
В итоге разразилась катастрофа: США потряс Великий кризис.
Именно в этих сложных условиях Ф. Рузвельт принял от американского народа бразды правления. Политико-экономическая практика безраздельного господства бизнеса во всех сферах общества была сразу объявлена новым президентом безнадежно устаревшей. Взамен он предложил новый курс. В чем его суть?
Для Рузвельта было абсолютно ясно, что интересы неконтролируемого бизнеса не могут совпадать с интересами общества в целом (кризис наглядно это продемонстрировал). Необходимо было блокировать (или хотя бы нивелировать) все негативные стороны рынка, сохранив все его несомненные плюсы. Эту задачу, несмотря на вопли сторонников абсолютно свободного рынка, обвинявших Рузвельта чуть ли не в коммунизме, американскому президенту удалось решить. Успех обеспечила практическая реализация двух главных идей, легших в основу нового курса.
Первая идея вполне очевидна. Пока экономика непрозрачна для государства и общества, бизнес не будет выполнять своих обязательств перед ними (какие бы обязательства на него ни накладывались). Закрыв все финансовые учреждения, которые не смогли доказать законность происхождения своих капиталов (а таких в США в начале 30-х годов было подавляющее большинство), государству удалось обеспечить прозрачность финансовых потоков.
Естественно, эти меры (как и правила, вынуждающие бизнес учитывать интересы общества, о которых будет рассказано ниже) вызвали сильное противодействие олигархических и криминальных структур. Для подавления вооруженного сопротивления их сторонников (точнее, наемников) новому курсу, Рузвельту пришлось задействовать национальную гвардию. В городах Америки шли настоящие сражения. Но иначе решить проблему было нельзя.
Однако только этих действий было бы недостаточно, и рано или поздно все вернулось бы на круги своя.
Избежать этого помогла реализация второй идеи.
Государство должно создавать условия, позволяющие бизнесу развиваться, но вынуждающие его заботится и об общественных интересах. Здесь речь идет не о контроле над экономикой, а об управлении ею. Идея государственного контроля над экономикой, конечно, соблазнительна. Но если государство возьмет на себя такую функцию, то это неизбежно приведет к сильнейшей коррупции в среде чиновников, срастанию бизнеса и государства и, как следствие, к неизбежному кризису.
Однако контроль необходим. Без него значительная часть экономики неизбежно уйдет в тень, что негативным образом скажется на общественных интересах. Но осуществлять этот контроль должны структуры, кровно заинтересованные в выполнении предписанных государством правил игры. В странах с развитой партийной структурой эту функцию берут на себя политические партии, дорожащие мнением избирателей. В США (как и в современной России) таких партий нет. Существующие Республиканская и Демократическая партии — это, по сути, не политические структуры, а менеджерские команды, конкурирующие между собой за право управлять государством (rстати, «Единая Россия» во многом сходна с ними и не в состоянии взять на себя функцию общественного контроля).
Поэтому Рузвельту пришлось наделить профсоюзы равными с работодателями правами. Тем самым был обеспечен эффективный контроль над бизнесом (кто лучше наемных работников, кровно заинтересованных в том, чтобы работодатели выполняли свои обязательства, их проконтролирует!).
Идеи, заложенные в новом курсе, до сих пор актуальны и именно они обеспечивают США мировое экономическое господство.
В 90-е годы минувшего столетия Россия, во многом, наступила на те же грабли, что и Америка в 20-е.Конечно, изменившиеся условия требуют некоторой корректировки тех решений, которые применил Рузвельт для вывода своей страны из кризиса (плюс учет российской специфики). Но в целом эти подходы и сегодня актуальны. Для решения стратегических задач, стоящих перед Россией, они вполне могут быть использованы.
Однако, как было показано, и Рузвельт не смог бы добиться необходимых результатов без опоры на гражданское общество. Не обойтись без него и России, если она хочет нормально развиваться и сохраниться как государство.
Недоверие народа к власти — препятствие или стимул для развития?
Одной из проблем построения в современной России гражданского общества нередко называют недоверия народа к власти. Это считается основной причиной паралича демократических институтов и политической системы в нашей стране. Указал на эту проблему и президент в нынешнем послании к Федеральному Собранию.
Однако низкий уровень доверия к власти и крупному бизнесу — не есть какое-то особое свойство российского народа. Более того, оно в большей степени может стать стимулом для развития гражданского общества, нежели препятствием.
Если окинуть взором историю человечества, то большее или меньшее недоверие властителям — это нормальное состояние любого народа. По-настоящему же верил он, напротив, единицам, которые и становились подлинными вождями. И далеко не каждое поколение той или иной нации видело на своем веку таких вождей. Доверие масс облекало правителей большой властью, и, по сути, их правления неизбежно являлись авторитарными (независимо от того, насколько благоприятны или неблагоприятны они были для народа). И уже от самого лидера зависело, превратится ли он в диктатора, и какая система власти сложится после него.
Напротив, в основе развития демократии лежит именно недоверие народа к политикам. Именно оно побуждало массы брать свою судьбу в свои руки, вырабатывать системы управления властителями всех уровней и контроля над ними (по принципу: доверяй, но проверяй). Инструментами такого управления и контроля и являются постоянно совершенствуемые институты гражданского общества.
Иждивенческая позиция нашего народа по отношению к власти уходит корнями в СССР. Находясь «под крылышком» у советского государства (особенно в так называемые застойные годы), массы разучились бороться за свое будущее. Поэтому переболеть слепой верой в крикунов-политиков времен Горбачева и Ельцина и обрести здоровое недоверие к власти вообще для россиян было очень полезно.
И то, что наш народ сейчас не верит власти, — это хорошо. Плохо другое. Как ни парадоксально это звучит, но демократия и гражданское общество в России оказались невостребованными.
Почему?
Как вы думаете, является ли настоящим оружием ружье, которое не может стрелять? Конечно, нет, это просто муляж. Российский народ не получал в свое распоряжение демократических институтов. Он получил их муляж. Повертел его в руках, попробовал куда-то употребить, понял, что это вещь бесполезная, и выбросил. Но бесполезен муляж, а не настоящее ружье или настоящая демократия. Просто народ и не мог составить себе достоверного представления о демократии по ее подделке.
С другой стороны, как из муляжа ружья нельзя научиться стрелять, так и на муляже демократии нельзя научиться пользоваться настоящими демократическими институтами. Потому-то российский народ (как всегда признавалось, достаточно талантливый и уж тем более не глупый) до сих пор не умеет пользоваться своими свободами, что интерпретируется властью, как фатальная неспособность к демократии. Но не обучен и не способен к демократии — это не одно и то же.
Гражданское общество в России оказалось невостребованным не потому, что народ не нуждается в нем, а потому, что для этого общества не нашлось реальных, конкретных функций. Все, что сейчас могут необлеченные властью россияне — это постоять в пикете, чтобы НЕ быть услышанными этой властью. Потому что реально российское общество сейчас не решает ничего: ни стратегию и тактику развития страны, ни где и какой дом или дорогу построить, какую свалку ликвидировать. Чиновники от мала до велика взяли на себя абсолютно все решения от государственного устройства до дворового благоустройства. А политическая реформа, инициированная президентом, дала бюрократам еще больше полномочий.
Для любой современной развитой страны это ситуация абсолютно ненормальная. Потому что в этой ситуации, с одной стороны, отсутствует какая бы то ни было почва для демократии и гражданского общества, а значит, и для развития; с другой стороны, создаются идеальные условия, настоящий заповедник для произрастания коррупции, организованной преступности и слияния ее в «экономическом экстазе» с властью.
К настоящему моменту коррупция и паралич государственного управления достигли таких размеров, что уже сама федеральная власть ощущает насущную потребность борьбы с этим злом. И несмотря на то, что пока президент пытается бороться с коррупцией самым, как мы говорили, бесперспективным способом — руками коррупционеров, все же ситуация не совсем безнадежна. И может быть скоро Россия, подталкиваемая объективной необходимостью, все же выйдет на единственно верную, как показал весь мировой опыт, дорогу — сближение власти и реального гражданского общества.