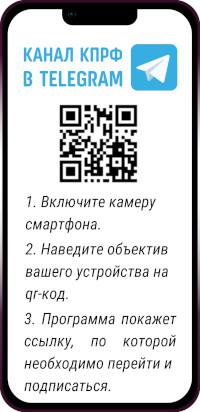Педагогическая "поэма" Кузбасса
В Кемеровской области защита научных диссертаций по педагогике поставлена на такой мутный поток, что он начал «заливать» уже московские просторы.
Судя по официальным данным, в Кузбассе вскоре наступит всеобщая педагогизация области. Никто, конечно, не считал остепененных педагогов в регионе, хотя надо бы. Как утверждает заведующая кафедрой социологических наук Кемеровского государственного университета, доктор социологических наук, профессор Лидия Шпак, среди них хватает «конвейерно-липовых» кандидатов и даже докторов наук, ничего крупного не привнесших в педагогическую науку. Это не пустые слова. За ними стоит анализ десятков научных диссертаций. Достаточно сказать, что Лидия Леонидовна проанализировала более 90 авторефератов и несколько томов диссертаций. По ее данным, значительная часть диссертационных работ грешит плагиатом, слабой доказательной базой и просто фальсификацией фактов. Во всяком случае, примеры, которые приводит профессор Шпак, заставляют задуматься о том, что диссертации по педагогическим специальностям в Кузбассе делаются, как минимум, только ради самих диссертаций, а не ради науки. О максимуме можно лишь догадываться.
Формирование формирования
Что стоят, например, названия диссертаций, начинающихся словом «Формирование». Соискатели «формируют» все подряд – профессиональное самоопределение, опыт творческой деятельности, познавательную активность, социально-профессиональную адаптивность, ценностные ориентации и многое другое. Без преувеличения можно сказать, что кузбасские кандидаты и доктора педагогических наук сформировали уже все, что только было можно. Места для полета педагогической мысли уровня Сухомлинского и Макаренко в Кемеровской области уже не осталось. Даже главы в научных работах называются однообразно, а их содержание нередко совпадает. К сожалению, таких диссертаций десятки.
Еще одна тенденция. Сроки исследований, которые положены в основу большого числа диссертаций, почему-то часто совпадают с трудовым стажем соискателя. При этом они перекрывают по три-четыре аспирантских срока, который, как известно, укладывается в трехлетний период. Например, исследовательский этап одного из диссертантов длился 16 лет! И, наоборот, есть диссертации, где за довольно короткий срок для научной работы приводятся данные, получение которых вряд ли под силу одному человеку. Цитата из автореферата: «В процессе исследования проанализировано свыше 200 нормативных документов, около 100 учебных планов и программ различных видов образования, обследовано: 628 учащихся общеобразовательных школ, 580 учащихся инновационных школ, 1380 студентов, 250 учителей школ области, 78 преподавателей университета, 120 специалистов разных специальностей, проанализировано 2000 анкет и опросных листов.
Впечатляет?! Специалистам известно, что даже обычный социологический опрос пятиста респондентов по анкете средней сложности с полной обработкой данных обходится примерно в сто тысяч рублей. Другими словами, в этом случае есть, над чем задуматься. Например, о том, какие средства пошли на эти исследования? А если не пошли, то откуда взялись данные? Тем более что корректность опросов вызывает большие сомнения, потому что не определена даже погрешность выборки для опроса, а выводы об успешности педагогических экспериментов подаются в процентах на основе опросов. Правда, справедливости ради, надо сказать, что автор кандидатской указал, что эти масштабные исследования были проведены на базах комплексной экологической экспедиции творческого объединения «Общее дело» Российского фонда культуры и центра непрерывного образования Кемеровского университета. Однако в автореферате не указано, сколько усилий вложил в эти исследования автор, а сколько «базы». Это опять же не единственный пример.
Повторяющаяся новизна
Что является определяющим в научной работе? Любой аспирант скажет – новизна. Но именно с этим в большинстве диссертаций очень и очень плохо. Педагогические диссертации в Кузбассе плодят не по этому принципу. Их разнообразие сводится лишь к разнообразию исследовательских площадок. Например, сельхозинститут, военный вуз, образовательное учреждение какого-либо типа – интернат, гимназия, лицей и т. д. Меняются площадки, категории учащихся, которые превращаются в воспитанников, студентов и т. д. Новизна клонируется, как говорится, кочует «новизна с бородой».
Например, соискательница Курашева, защищавшая диссертацию по теме «Формирование коммуникативной компетентности будущего учителя» в раздел «Новизна» помещает то, что уже было у нескольких диссертантов до нее. Кандидат педнаук Кокорина почти дословно повторяет текст из докторской диссертации 2002 года Елены Рудневой (запомнили имя Рудневой?). Некая Дерябина представляет в этом разделе тот же самый пункт о педагогической модели. В диссертации Ирины Шадриной, работавшей специалистом департамента образования области, есть многое из текста своей научной руководительницы Рудневой. Это же можно сказать в отношении многих других кандидатов педагогических наук. Все подтверждается документально. Нужно лишь внимательно прочитать хотя бы авторефераты кандидатов педнаук Кузбасса.
Бывают, правда, и в «старой новизне» проявления «новизны новой». В кандидатской диссертации Татьяны Семенковой, которая разрабатывала социально-педагогические направления функционирования региональной системы управления, содержалось поистине завораживающее направление. Это, цитирую дословно, - «обеспечение воодушевляющего характера управления (выделено мной – Ю.Т.) системой образовательных учреждений интернатного типа». Кстати, на день своей защиты Татьяна Семенкова работала начальником департамента образования Кемеровской области.
Организованно-научная группировка
Как стало возможным, что отдельно взятый регион начал занимать лидирующие позиции в России по количеству кандидатов педагогических наук в управленческих структурах образования? Надо полагать, без участия лиц, которые стояли и стоят у управленческих рулей диссертационного конвейера и системы образования Кузбасса, здесь не обошлось.
Диссертационный совет, через который идет защита диссертаций, возглавляет доктор педнаук, профессор Наталья Касаткина. Именно Наталья Эмильевна является научным руководителем десятков соискателей на научную степень, кандидатские которых сошли с конвейера руководимого ею диссертационного совета. Именно эти диссертации грешат заимствованиями и повторами. Кстати, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики, которую Наталья Касаткина возглавляет в Кемеровском госуниверситете, одна из самых многочисленных. Она насчитывает около трех десятков педагогических кадров. Прибавьте к этому те кафедры, что созданы в филиалах университета, других вузах, в КРИПКиПРО (бывшем институте усовершенствования учителей).
Впрочем, удивляться тут нечему. Кузбасским специалистам известна работа Натальи Касаткиной и Елены Рудневой «Курс лекций по педагогике», за которую авторы получили 1-ю премию. Ее в Кемеровской области вручают за лучший учебник по педагогике. Говорят, неплохой учебник. Правда, его авторство фактически принадлежит другому ученому – доктору педагогических наук, профессору Ивану Подласому и называется «Педагогика. Новый курс». Его учебник-бестселлер издан в двух томах в Москве намного раньше учебного пособия Касаткиной-Рудневой. Премиальная работа Касаткиной и Рудневой грешит такими заимствованиями из Подласого безо всяких ссылок, что читать такое – стыдно. А ведь книга двух кузбасских педагогинь была даже рекомендована Сибирским региональным учебно-методическим центром для вузов. Редакция располагает сличительным анализом двух работ, а также многими сличительными ведомостями кандидатских диссертаций.
Соавтор Натальи Касаткиной по списанной книге доктор педагогических наук Елена Руднева является не только родной дочерью Касаткиной, она же с января этого года возглавляет департамент образования и науки Кузбасса. Стремительная карьера Елены Рудневой, как поговаривают в Кемерове, связана с другим местным персонажем – с бывшим начальником департамента образования области, а ныне проректором Кемеровского госуниверситета Татьяной Семенковой. Елена Руднева в прошлом работала у нее замом. Тогда же Татьяна Семенкова защитила кандидатскую по педагогике. Стоит ли говорить о том, что работы бывших коллег – более ранней докторской Рудневой и кандидатской Семенковой – это «близнецы-братья»?! Сравнительный анализ этих двух работ можно читать, только пылая от стыда.
Любопытно, что любая информация о конвейере кандидатских по педагогике, в том числе и история с книгой Ивана Подласого, блокируется верхушкой Кемеровской областной администрации. Наоборот, на авторов и сомнительных диссертантов пролился наградной дождь. Многие из сотрудников кафедры Касаткиной награждены премиями, местными медалями «За веру и добро», «За достойное воспитание детей». Среди них, например, доцент, а ныне профессор, Ольга Красношлыкова, которая стала победителем губернаторского гранта в 100 тысяч рублей за разработку уникальной темы. Она звучит так: «Разработка согласованных требований к содержанию и уровню профессиональной подготовки педагогов, сопряжение программ и учебных планов в системе непрерывного педагогического образования (среднее и высшее профессиональное, послевузовское образование) как фактора повышения профессионализма педагогов и качества современного образования». Если эту многословную фразу перевести на русский язык, она могла бы, например, в коротком варианте прозвучать так: «Разработка должностных инструкций для педагогов». За «разработку» таких «тем» иные чиновники получают зарплату.
Знаменательно, что в Высшей аттестационной комиссии (ВАКе) хорошо осведомлены о существующем положении дел в научно-образовательной системе Кузбасса. Знают о проблемной ситуации и в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. В ноябре прошлого года заместитель начальника управления организации и контроля в сфере аттестации научных и научно-педагогических работников этой службы Голов ответил на письмо Лидии Шпак. Он сообщил: экспертный совет по педагогике и психологии ВАК, обсудив вопрос о диссертациях, выпущенных под началом Касаткиной, не нашел оснований для беспокойства и пересмотра дел. Федеральный чиновник считает, что «разногласия и различные взгляды на научные исследования двух кафедр одного университета должны быть предметом обсуждения руководства вуза». Но что можно обсуждать с руководством вуза, ректор которого может прочитать письмо, адресованное сотруднику, раньше самого сотрудника? Письмо Голова к профессору Шпак ректор Кемеровского госуниверситета Поварич прочитал раньше Лидии Леонидовны, о чем свидетельствует его собственноручная надпись на ответе московского чиновника. Что же касается обвинений в адрес Касаткиной и Рудневой в плагиате, то Голов сослался на правовой механизм судебного установления таких фактов.
Спрашивается, за чем же тогда надзирает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки? Или влияние руководителей кузбасской «педагогической империи» настолько велико, что заставляет молчать целое управление Федеральной службы вместе с ВАКом? Чем, интересно, подкрепляется такое влияние, если оно возможно в принципе?
Профессор Шпак открыто называет вещи своими именами – конкретные кандидатские диссертации – липовыми, некоторых ученых-педагогов, сошедших с педконвейера, – «переписчиками чужих текстов без ссылок на авторов», иначе – плагиаторами. Ей грозили увольнением и судом. А она считает, что сумеет доказать, кто прав. Но переписчики чужих трудов молчат, как смолчала недавно на ученом совете университета Наталья Касаткина. Тогда Лидия Леонидовна, увидев свободные места только рядом с профессором Касаткиной и сотрудниками ее кафедры, во всеуслышанье заявила, что не сядет рядом с плагиаторами. Ей принесли стул…
«Педагогическая империя» Кузбасса оказалась на пороге своего краха?