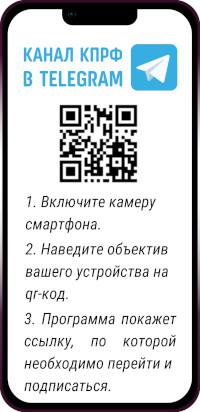Реставрация человека
Банальности довольно часто оказываются правдой. Ну, например, такая банальность: настоящая революция – та, что происходит в умах. Действительно, в стране может стать у власти совершенно другой класс, политическая и экономическая картина – измениться до неузнаваемости, но, если состояние умов осталось прежним – это не революция. Другое дело, что после всего этого оно просто не может остаться прежним.
Чего хотел Эдип
Если в сегодняшней России революция вообще возможна, то она может носить только гуманистический характер, то есть иметь своей целью поставить человека в центр мироздания. Иными словами, человеку нужно вернуть положение, которого большую часть своей истории он был лишен.
Собственно, на малости и ничтожности человека основано большинство религий и философских учений. Как только древний человек начал задумываться над абстрактными вопросами, он обнаружил, что от него в этом мире мало что зависит – в том числе и в делах, определяющих его собственную участь. Человек является заложником (впрочем, чаще говорят «игрушкой») каких-то темных сил (в данном случае слово «темный» означает не злобу или враждебность, а, скорее, непонятность, как в выражении «смысл темен»).
С развитием воображения у человека он стал обожествлять эти силы. Да и, согласитесь, приятнее считать себя игрушкой высших и благих сил, чем сил вообще. Ярче всего эту идею сформулировали древние греки – в мифе об Эдипе. Забавно говорить об этом, но мифический Эдип вовсе не страдал «эдиповым комплексом». Он не хотел ни убивать отца, ни овладевать матерью – настолько сильно НЕ ХОТЕЛ, что был готов на все, лишь бы этого избежать. Однако ж не избежал – потому что так было суждено. Мораль этого мифа можно выразить коротко: чему бывать, того не миновать. Фатализм, одним словом.
Подобные сюжеты можно встретить в фольклоре множества народов: и в финской легенде о Куллерво (творчески переработанной Толкином в «Сильмариллионе»), и в шотландской сказке о Шеймасе и птицах… Одного только краткого пересказа таких сюжетов хватило бы на увесистый том.
В поисках выхода
И все-таки полностью зависеть от судьбы, согласитесь, не очень приятно. Люди принялись искать выход. Те же греки, чемпионы мира по фатализму, изобрели стоическую философию, дававшую человеку хотя бы подобие свободы. Другой путь предложили индусы: в их религии судьба («дайва») вовсе не всесильна, и человек – разумеется, должным образом подготовленный – может вырваться из-под ее власти.
Христианство отказалось от подобных попыток. Напротив, оно облагородило слепую судьбу, назвав ее божественным Провидением с большой буквы П. Теперь судьбой человека распоряжался не кто-нибудь, а лично бог, благой творец. Пытаться противостоять его воле – оно даже и грешно. Я намеренно не касаюсь вопроса, была ли эта установка присуща раннему, изначальному христианству, или же возникла позднее. Для темы нашего разговора это несущественно.
Первая попытка человека овладеть собственной судьбой (разумеется, здесь речь идет лишь о странах, принадлежащих к Западной цивилизации) была предпринята лишь в эпоху Возрождения. Тогда же возникло и слово «гуманизм», означавшее именно эту попытку. До сих пор мир чтит мыслителей-гуманистов, отказавшихся признать власть судьбы – слепой или не очень – над жизнью человека.
От «Ромео и Джульетты» к «Буре»
Однако время для торжества гуманизма еще не настало. На смену Ренессансу пришло барокко, вновь склонившееся перед Роком (сравните хотя бы ранние пьесы Шекспира – и поздние, начиная с «Гамлета». Чувствуете разницу?). Вновь человек стал маленьким и ничтожным, а главное – слепым, как новорожденный котенок. Вновь он наугад тыкался в разные стороны, не сознавая, что приводит события к результату, к которому вовсе не стремился. От его воли практически ничего не зависело.
Просвещение снова попыталось освободить человека от пут судьбы. Для этого требовалось лишь овладеть знаниями и понять суть процессов, происходящих в мире. Теперь уже нет сомнения, что просветители стояли на верном пути. Осуществиться их идеям помешала лишь малая сумма знаний, накопленных человечеством к тому времени. И вновь – неудача, а за ней – пришествие «темного и вялого» романтизма.
А на дворе уже вступал в свои права XIX век – век торжества капитализма. Теперь человек был закрепощен в еще большей степени, чем прежде. Он зависел уже не столько от Рока (или, если вам больше нравится, Провидения), сколько от бездушной капиталистической машины – гигантской всемирной фабрики по переработке всего и вся в деньги. Человек был винтиком, сырьем, продуктом – чем угодно, только не свободной личностью.
Этот же процесс шел и в России, хотя здесь он имел свою специфику. Россиянин осознавал себя «винтиком» не столько буржуазной машины, сколько всеподавляющего государства. Русским Эдипом был пушкинский Онегин из «Медного всадника». Этим персонажем (не рискну назвать его героем, поскольку это фигура сугубо пассивная, никаких действий не совершающая) в равной мере играют и судьба в образе наводнения, и государство, воплощенное в Медном Всаднике. Старая традиция как бы накладывается на новую – отчего на человека легло двойное бремя.
Памяти Берлиоза
Гигантский скачок вперед был сделан в 1917 году. К власти в России пришли не просто революционеры или марксисты – к власти пришли гуманисты. Свободное распоряжение человека своей судьбой – это была самая суть советского строя.
Даже в наше время многие удивляются размаху антирелигиозной кампании 20-х годов. А на самом деле тут все просто: это был не столько атеизм, сколько богоборчество. Люди должны были свергнуть с небес бога (равнодушного и бесчеловечного) – чтобы самим стать богами, взяв судьбу в собственные руки. Раз глотнув свободы, люди уже не желали быть рабами, в том числе и божьими.
Характерно, что суть советского гуманизма весьма точно выразил его ярый противник Михаил Булгаков. Я имею в виду, разумеется, знаменитую сцену из «Мастера и Маргариты» – спор Воланда с Берлиозом на Патриарших прудах. В соответствии со своими взглядами, Булгаков вложил гуманистически высказывания в уста малосимпатичного Берлиоза. Но от этого они не стали менее верными.
Итак, на вопрос, кто же управляет судьбой, Михаил Александрович отвечает: «Сам человек и управляет». Это – квинтэссенция советского гуманизма. Возражая ему – устами Воланда – Булгаков как бы опровергал всю идеологию, на которой бы построен СССР. А затем он же и убивал эту идеологию (естественно, в лице Берлиоза), толкнув под трамвай.
Да, человек не может составить план на какой-нибудь смехотворно малый срок – лет, скажем, в тысячу. Точнее, сегодня не может. Но это вовсе не значит, что он не сможет сделать этого и завтра. Наука развивается, методы планирования совершенствуются. И – что самое главное – это наука служит не «элите», не машине по вырабатыванию денег, а всему обществу. А общество-то составляют не просто люди – а люди, которые твердо намерены стать богами.
Саркома легкого? Пардон, а что, медицина стоит на месте? Через некоторое время и те самые гадалки не понадобятся. Одним словом, советский гуманизм предполагал, что с течением времени от каждого человека будет зависеть все больше и больше. И настанет день, когда он освободится от пут судьбы (или случая) – и сравняется с богом.
Конец – и новое начало
Разумеется, реальность была весьма далека от этих построений – но мы-то сейчас говорим не о реальности, а об идейной установке. А она в СССР проявлялась буквально во всем – в кинематографе, в литературе, в пропагандистских образах героев войны и труда (с которыми при желании и должном упорстве мог сравняться каждый). А вспомним могучих исполинов на советских плакатах, или, скажем, знаменитую скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Ведь это не боги, не герои, не святые – это такие же люди, как мы с вами. Но при этом они сильнее любых богов, они сами распоряжаются своей судьбой.
Однако советский строй пал (причины его гибели, думается, не имеют отношения к теме данной статьи). И сегодня, в начале XXI века, человек вновь мелок и ничтожен. Его роль – стенать под копытами Медного Всадника, на этот раз уже путинского (который, впрочем, мало отличается от своего дореволюционного предшественника, разве что еще большим равнодушием и жестокостью). Ни для чего другого у него просто нет возможностей. А стало быть, сейчас снова в полный рост встает прежняя задача – освободить человека и дать ему возможность стать Человеком. Конечно, нам будет труднее, чем нашим предшественникам – ведь противник у нас гораздо более сильный и умелый. Но, с другой стороны, и у нас возможностей больше: мы имели возможность изучить опыт гуманистов, просветителей, большевиков… Зная их ошибки, мы сможем избежать их повторения.
Риск – огромен. Зато в случае успеха через некоторое количество лет мы – или, что более вероятно, наш дети или внуки – смогут, не кривя душой, ответить на все тот же вопрос: «Сам человек и управляет».